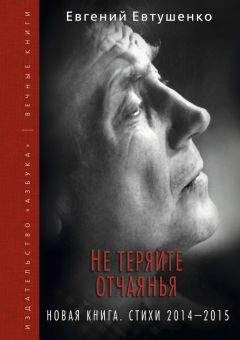Жизнь свою – за други своя
В детстве из былин услышал я:
«Жизнь свою – за други своя».
Я давно на свете сирота,
тянет внутрь земная сырота.
Ты не поддавайся, зубы стиснь.
За кого готов отдать ты жизнь?
Ну а кто такие други?
Не льстецы они, не слуги
те, кто в непроглядной вьюге
тебе руку подадут,
никогда не продадут.
Те, кто вместе, те не пропадут.
Это может быть на фронте,
в точь по строчкам Пиндемонти –
лучше не наполеоньте,
все права, все счастье тут,
если нас не предадут.
Пиндемонте тот, какого
элегантно и толково
Саша Пушкин изобрел,
чтобы царский произвол
на поэта не был зол,
ибо он его вкруг пальчика обвел.
И на всех под небесами
мы не будем злиться сами.
Бог ведь вовсе не для зла нас произвел.
«Жизнь свою – за други своя –
и в последнем круге бытия», –
Бог сказал, прикинувшийся витязем,
из породы нерушимой вытесан,
нас, таких несовершенных, сотворя
и о смысле жизни говоря:
«Жизнь свою – за други своя».
23 марта 2015
«Победа – дочь литературы русской…»
Победа – дочь литературы русской,
и, от врага прикрыв тебя, Москва,
седой учитель-ополченец рухнул,
шепча себе: «Вот счастье… Вот права…»
И чья сержантом вспомненная строчка,
когда не устоял он на ногах,
к убитому прижалась, будто дочка,
в Берлине, от Победы в двух шагах?..
16 марта 2015
Невостребованная при жизни. Сусанна Укше (1885–1945)
(Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»)
Из лютеранской семьи. Отец – онемеченный латыш, мать – немка. При введении паспортов в начале 1930‑х годов Сусанна Альфонсовна, в отличие от братьев и сестры, назвалась немкой, из-за этого в конце концов и погибла. Но и правильная национальность ничего не гарантировала: сестра Наталья умерла еще в 1934 году, а младший брат Борис, конструктор, работавший с А. Н. Туполевым, был расстрелян как враг народа в 1938‑м.
Закончив классическую гимназию в Муроме, Сусанна Укше преподавала в ней же немецкий и французский языки. Затем снова училась, уже в Петербурге: сначала на экономиста, следом на юриста. Оба эти образования были востребованы на службе в Психоневрологическом институте, где она еще и заведовала библиотекой.
Профессор юридического факультета Михаил Андреевич Рейснер, познакомившись с Сусанной в институте, пригласил ее для занятий иностранными языками со своими детьми – Игорем и Ларисой. С Ларисой Рейснер, которая была моложе на десять лет, Сусанна подружилась и даже попала в качестве эпизодического лица в ее «Автобиографический роман». Правда, описана там свысока и снисходительно.
Обе молодые женщины были увлечены одним и тем же никак не взрослевшим юношей, беззащитным перед жизнью Алексеем Лозина-Лозинским, автором весьма изощренных стихов, – но увлечены были по-разному. Во всяком случае, Сусанна Укше на протяжении тех почти тридцати лет, которые прожила после его самоубийства, постоянно вспоминала его и в стихах, и в письмах.
Без Лозина-Лозинского Петроград для Сусанны Укше опустел, а после захвата власти большевиками и вовсе стал чужим, и она вернулась к родным в Муром. Но семейное имение было разграблено, жизнь оскудела, и мать, не выдержав унижений и произвола, застрелилась.
В стихотворных откровениях настоящего поэта нередко выговаривается больше, чем сам он знает и может объяснить. И если мы внимательно вчитаемся в неброские пейзажные стихи Сусанны Укше, написанные весной и летом 1917 года, то вздрогнем от предчувствия в них и иностранного вторжения, и Гражданской войны. Почему вдруг на ночной Мойке возникают призраки британских гренадеров, а грядущая осень покроет обвитые виноградом колонны не красным или пурпурным, а багрово-кровавым налетом? Почему травы не пожухнут, а обязательно почернеют и невеселую зиму надо будет прожить «под гнетом снегов»?
Очевидно, это Лариса Рейснер подбила подругу испытать себя в условиях военного похода. Как бы иначе Сусанна смогла попасть весной 1920 года на службу в Волжско-Каспийскую военную флотилию? Но флотилией командовал муж Ларисы – Федор Раскольников, сама Лариса была по совместительству его адъютантом, и Сусанна Укше недолго, но побывала заведующей культурно-просветительским отделом флотилии. При ней был взят город Ленкорань и захвачен белогвардейский флот в иранском порту Энзели. Этот эпизод своей жизни Сусанна вспоминала с ужасом, хотя ее на операции и не брали.
«Все мое участие в этом деле, – рассказывала она в одном из последних писем, – заключалось в том, что, когда они уходили в море, я каждый вечер слезно молилась: „Дай, Господи, чтобы их никто не убил и чтобы они никого не убили“».
Как это похоже на стихи Максимилиана Волошина о Гражданской войне: «…И всеми силами своими молюсь за тех и за других»!
Потрясенная известием о расстреле Гумилева, Сусанна Укше пыталась представить себе, как это было. Ее поразил рассказ петроградского матроса о том, что в Питере людей сажали на баржу, вывозили в море, там убивали и выбрасывали за борт. Это могло значить, что у Гумилева даже могилы нет. И Сусанна в одном из своих стихотворений, посвященных памяти Гумилева, приняла эту версию. Но стоило ей прочитать само стихотворение в московском кружке «Литературный особняк», как ее вызвали на допрос в ОГПУ. Следователя интересовало, какие цели она преследовала, читая собственные стихи. Иначе говоря, не покушалась ли она тем самым на власть? К счастью, ответ успокоил любознательного правдоискателя: «Свое стихотворение о Гумилеве я прочла потому, что считаю его лучшим».
Сусанна Укше стихи писать не переставала ни в 20‑е годы, ни в 30‑е, ни в 40‑е, много переводила, в частности Данте и Петрарку, а одно время рифмовала не только по-русски, но и по-немецки, и по-французски, и по-итальянски. С 1921 года входила во Всероссийский союз поэтов. Писала о себе: «Я старая поэтесса московская, давно признанная». И действительно, у нее был круг ценивших ее профессионалов.
Но стихотворных книжек у нее не было. При жизни, в 20‑е годы, в небольших коллективных сборниках появились всего девять ее стихотворений. Если что-то где-то еще проскользнуло, то до сих пор не выявлено. Только через 62 года после смерти, уже в XXI веке, появился первый солидный сборник стихов Сусанны Укше.
В июле 1941 года ее как немку высылают в башкирский поселок на реке Белой. Самостоятельно ей удается перебраться в Алма-Ату. Здесь условия были несравненно лучше. Была надежда получить хоть какую-то работу. Но именно здесь меньше чем за три месяца до конца войны Сусанна Укше скончалась в больнице от истощения.
Могила Гумилева была засекречена. А могила Сусанны Укше просто затерялась.
Мойка
Весенней ночью дремлет Мойка
Широкой лентой серебра.
И спят голландские постройки –
Затеи грозного Петра.
Литовский замок опаленный[11]
(«Ах, если б встали старики…»)
И темно-красные колонны
Над бледным зеркалом реки.
Деревья пахнут пряной лаской,
Под аркой стынут корабли.
И гренадер в медвежьей каске
Маячит в призрачной дали.
24 мая 1917* * *
На балконе увядшие листья лежат,
Меж деревьев – таинственный шум,
И любимых цветов дорогой аромат
Не развеет нерадостных дум.
Скоро осень холодною гостьей войдет,
Озираясь на старый балкон,
И покроет багрово-кровавый налет
Виноградные листья колонн.
Почернеют душистые травы лугов,
Мои ласточки тронутся в путь –
Невеселую зиму под гнетом снегов
Надо будет прожить как-нибудь.
31 июля ‹1917›* * *
Моей лодке куда причалить?
Мне заказаны все пути.
От себя и своей печали
Не могу никуда уйти.
На груди золотистой Волги,
В благовонных садах Баку,
На каспийских зеленых волнах
Я встречала свою тоску.
Сдавит сердце рукой знакомой
И разбудит былое вновь.
И опять… Анфилада комнат…
На полу у порога кровь…[12]
И удушливо пахнет порохом,
И нельзя никуда прилечь –
И ни звука кругом, ни шороха,
Только крест нагоревших свеч.
22 октября ‹1921›Москва* * *
Здравствуй, ветер, вольный и холодный[13],
У широкой, роковой реки.
Сколько ночью оторвалось лодок –
И в порту крестились старики.
Ветер! Ветер! Ты ходил дозором
Возле шхер финляндских поутру,
Заливая радужным узором
Посиневший молчаливый труп.
Ты не видел русского поэта?
Был он строен, тонок и высок.
Был расстрелян позапрошлым летом –
Я не знаю, в сердце ли, в висок?
Если видел… Слушай, ветер милый,
Там, где сосны шепчутся, шурша,
Приготовь веселую могилу
На песке в зеленых камышах.
И укрой замученное тело
Влажных кружев пенною каймой,
И венец у раны закоптелой
Золотыми брызгами омой.
О страна, которой нет любимей,
Спой ему, как прежде пела мать,
И шепни ласкающее имя,
То, с которым легче умирать.
24 февраля ‹1923›* * *
Жестокий век! Великий и кровавый, –
Когда земля вздымалась от могил,
И каждый день венчался новой славой,
И каждый день былую хоронил.
Заговорили все свинцом и сталью,
И вот войной пошел на брата брат,
И дети улыбаться перестали,
И утром солнцу каждый был не рад.
И разучились мы смотреть на небо,
И по ночам мы не видали звезд;
И каждый грезил о кусочке хлеба,
О теплой ласке разоренных гнезд.
И все узнали нищету и холод,
Решетку, дуло черное в упор,
И небывалый, нестерпимый голод,
И страх безумия, и мрак, и мор.
И все же правнук в будущих столетьях
Нам позавидует и все поймет,
Когда он повесть о страданьях этих
В истлевших книгах прошлого прочтет.
Ведь нам, стоявшим под огнем и плетью,
И тем, которые ушли с поста, –
Всем довелось услышать шаг столетий
И целовать историю в уста!
И наши дни рапсодии кровавой
Запомнят люди в песнях и томах,
И каждый нищий облечется славой,
И каждый нищий проживет в веках.
Март ‹1926›* * *
В безмолвный час ночных скитаний,
Когда незримое видней,
Я слышу голос мертвых зданий
И ржанье Klodt’овских коней[14].
Не проронить живого слова,
В испуге не поднять лица,
Когда видения былого
Встают у Зимнего дворца.
Веселая Елизавета,
Смеясь, танцует сквозь туман.
Бледнее призрачного света
В цепях безумный Иоанн…[15]
И медный Петр летит к ограде
И топчет прошлогодний лист.
На небывалом плац-параде
Стоит с войсками декабрист…
А то, что так недавно было
И снилось людям сотни лет,
На серых камнях позабыло
Почти неуловимый след.
‹Март 1926›
«Я знал, что означает немцем быть…»